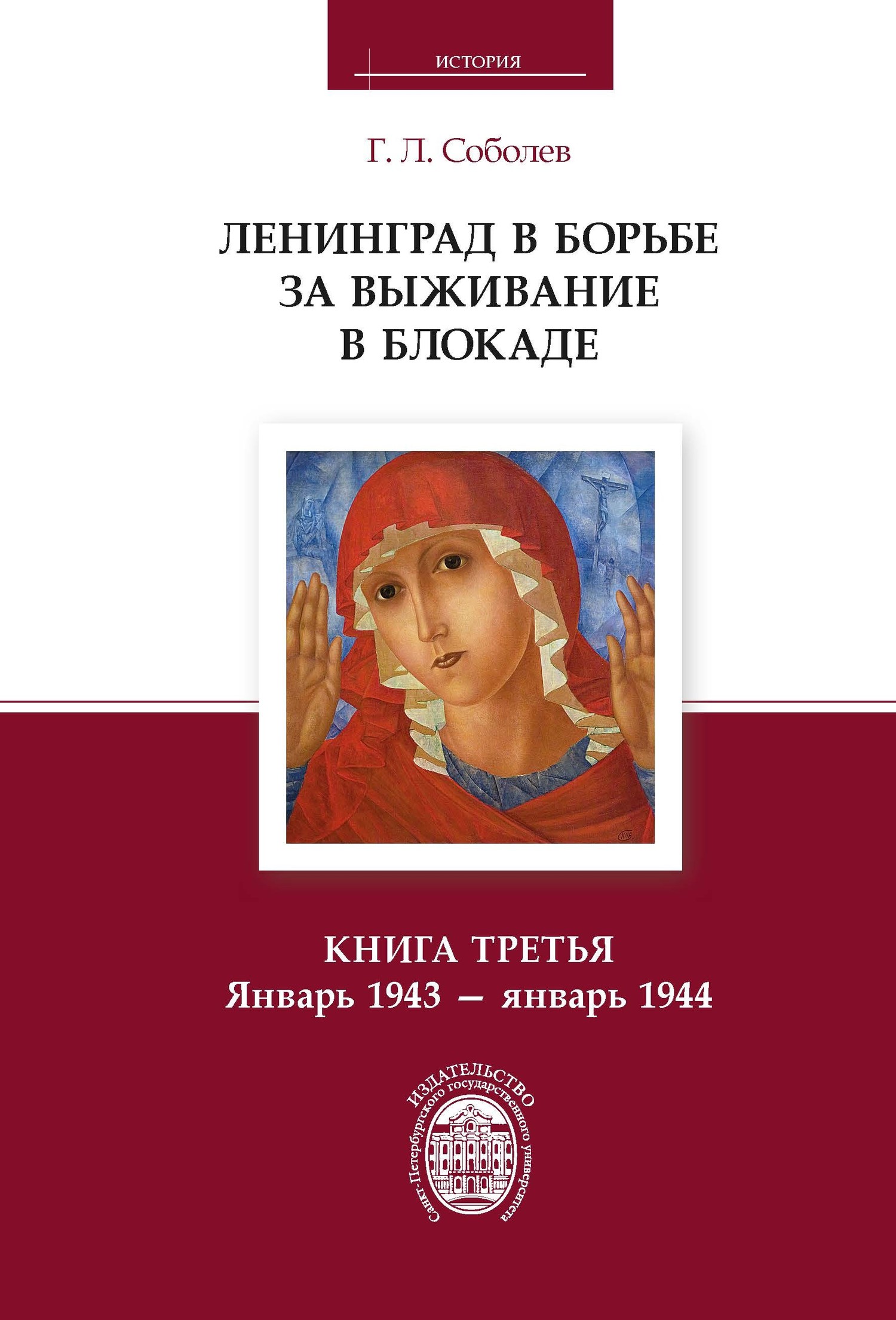Шрифт:
Закладка:
«Да, тут одним горцем не обойдешься»… Ему виделись бесконечные шеренги молодых, сильных, затянутых в портупеи жестких людей, которые свободно переступали через кровь… Словно — как это сказать? — словно автоматы, снятые с предохранителя. Автоматы без предохранителя. Где-то он вычитал, будто тюремные врачи выдвинули рацпредложение: выцеживать у свежих трупов кровь. Чего добру пропадать? Станция переливания крови в расстрельном каземате… Бред!
И такое омерзение охватило Петра, что на отца родного, фронтовика, старого работника милиции, стал грешить: и ты, небось, замешан, и ты был винтиком убойной машины! «Поди, и милиция не дремала, хватала и пихала в «воронок»!»
Руки отца спокойно разминали папиросу; был и он когда-то молодым, горячим… В памяти крепко засели, словно репьи в шерсти, и вой немецких самолетов, и лязг засова капэзовки, и тугая грудь Мотеньки, и духмяные запахи сенокоса… Бывало, всем райотделом заготавливали корма для служебной лошаденки. «Кстати, на ней и сынка возили крестить в соседнее село, — усмехнулся он. — Тайком, конечно…»
— Да нет, — сделав затяжку, прокашлялся отец. — Нас, слава богу, обошло. Политикой занималось НКВД — у них в каждом районе был свой отдел. Наше дело было проще: овцу увели, мешок овса со склада украли… с жульем разбирались. Были и среди них артисты. Сюзяне — слышал о таких? Аферюги — высший сорт! Приедет в деревню, доктором прикинется, напродаст всяких порошков — и был таков! Свой язык у них был — жаргон, что ли, или диалект? Короче, воровская феня. Вот сюзянин пишет с фронта домой: «Буристый лох приближается к большой деревне». Цензору невдомек, а домашние читают: «Гитлер подошел к Москве»… Так-то.
— А насчет того, что в тридцатых годах народ был жесткий — это верно. Костяком НКВД и были эти вчерашние мальцы: в гражданскую войну сколько ее, безотцовщины-то, бродило… Зла накопили немерено, всю страну могли свинцом накормить. Правда, Сталин их окорачивал… Немало их за компанию с Ягодой постреляли. Поди, проверь теперь — за дело, не за дело. Небось были и за дело…
Отца — царствие ему небесное — уж пять лет как нет, а рассказы запомнились… И теперь, оформляя протокол на очередного подкидыша, Коваженов ясно сознавал: стране еще аукнется эта нынешняя бездомность, бессемейность, безрадостность, на которые обрекли толпы детишек. Он знал, что из трех сотен детей, которые за полгода появились на свет в Большой Ялте, уже в роддоме тринадцать стали сиротами. Бросили, как смятую пачку из-под сигарет! Сколько их, неприкаянных бедолаг, по Симферополю, по Харькову, по Киеву… Будущая шпана. Души-то напрочь изуродованы. Душегубы мы, ей-богу, душегубы! И так неуютно стало Коваженову при мысли, что вот доживет он до пенсии, сядет на скамеечку у подъезда, а шпанята безнаказанно оскорбят, ударят… И не засвистишь, не схватишься за кобуру!
В соседней комнате заплакал ребенок, за ним — второй… Анна Сергеевна передала подкидыша водителю, пошла успокаивать детей. В чужих руках девочка закаменела, надулась, вот-вот заревет белугой.
— Мама Аня, я боюсь!
Сержант беспокойно завозился: как бы «чернильница не пролилась»! Капитан в который уж раз вскинул бровь: «мама Аня»… девчонку только подкинули… на крыльце под дождем мокла, а гляди ты — воспитательницу мамашей зовет, по имени знает! Что-то тут не так…
— Вот про Ванюшу говорили, — появилась в дверях Анна Сергеевна, — ну, которого в туалете нашли. Верите, нет — весь коллектив сбегался посмотреть, как мальчонка спит!
— Неужто на потолке?
— Может, вы в милиции и такое видели, а наш малец уткнется головой в угол, съежится да на корточках и спит! Ужас!
— Давайте-ка протоколом займемся, — решительно сказал Коваженов. — Стало быть, подброшена неустановленным лицом… документов нет… звать как?
— Меня, что ли? — отозвалась воспитательница.
— Девчонку.
— Девчонку — не знаем.
— Точно не знаете?
— Сомневаетесь? — В голосе женщины завибрировала обида. — Может, я сама ее в подоле принесла?
— Не знаю, не знаю, — пробормотал капитан. — Возраст какой?
— Года два с половиной будет, — пошевелила губами воспитательница. — Истощена. Явно отстает в развитии.
— В чем была одета?
— Да вот в этом платьице и была.
— А почему казенная печать на подоле? — Капитан растянул пальцами ткань с синим треугольником. Буквы от стирок расплылись, но прочесть все равно можно: «Дом… енка».
Вопрос застал воспитательницу врасплох: она открыла было рот, потом закрыла… Наконец, махнула рукой и сказала:
— Это вопрос не ко мне. Спрашивайте у главврача.
— Что ж, завтра и спрошу, — выдохнул капитан.
— Завтра она выходная.
— Тогда в понедельник. Не пойму, чего вы темните? — Капитан захлопнул планшет и решительно встал. — Поразмышляйте, нет ли чего добавить. Очень советую.
И твердо глянул в ее смущенные глаза.
* * *
Наутро, отсидев получасовую «пятиминутку», Анна Сергеевна отправилась на вокзал. Впереди было трое суток отдыха, практичней всего провести их на даче. Тем более что полоса надоевших дождей вроде бы миновала. Вчерашнее происшествие выбило Анну Сергеевну из колеи. Глядя на проплывающий пейзаж, она устало пыталась разобраться в мыслях. Справа, над морем, висели облака, похожие на блюдца, только что снятые с гончарного круга. Казалось, вот эти продольные борозды остались от грубых пальцев. Такие облака, подсвеченные низким солнцем, на Южном берегу частенько появляются в зимние месяцы. Их явление предвещает сильные ветры и непогоду. И вправду, через день-другой с яйлы, будто курьерский поезд, с грохотом срывается ураган… Голые деревья гнутся в три погибели, окна вибрируют и дребезжат. Гляди, вот-вот вырвет раму из стены, и все содержимое комнаты вслед за шторами высосет в трубу. Над городом вспыхивают мертвенно-голубые зарницы, сердце сбивается с ритма, тело замирает и холодеет, будто проваливается в яму… Потом налетает холодный дождь или снежный заряд. Такие бывают зимы на Южном берегу!
— Смотрите, смотрите — смерч! — закричал мальчик, тыча пальцем в окно. — Вон он, у Медведь-горы!
![Крым, я люблю тебя. 42 рассказа о Крыме [Сборник] - Андрей Георгиевич Битов](/uploads/posts/books/no-cover.jpg)